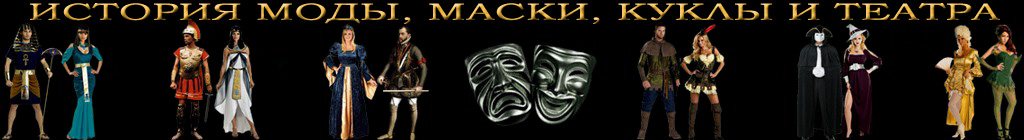С молодой царицей в кремлевские терема пришел новый дух, «так как, будучи сильного характера и живого нрава, она отважно пыталась внести повсюду веселье». И в этом ощущалось предчувствие перемен, потому что «дома царицы проводили всю жизнь уединенно на женской половине в обществе благородных девиц и женщин; с царем они редко садились за один стол и для препровождения времени и развлечений занимались лишь вышиванием золотом или приготовлением притираний».

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Наталья Кирилловна «хотя и не нарушала никогда отцовских обычаев, по-видимому, однако, склонна была пойти иным путем к более свободному образу жизни». Об этом говорил и произошедший с ней столь необычный случай, на который «не могли надивиться достаточно», когда она при первом своем выезде немного отодвинула штору с окна кареты. «Ей это поставили на вид, и она с сожалением, но благоразумно уступила», потому что царицу никто не должен был видеть с открытым лицом.
Алексей Михайлович «скоро приобрел ее любовь чрез подарки, достойные великого государя», и всячески старался доставлять ей удовольствия и повод к веселью. Мудрейшие философы еще в древности решили: «Насколько, по мнению Тацита, лучшим отдохновением для благоразумных государей является женитьба, настолько надежнейшей опорой власти являются дети царя»; поэтому, когда у молодой царицы должен был «народиться» ее первенец, Алексей Михайлович всячески старался «распотешить» свою жену.

Наталья Кирилловна Нарышкина,
вторая супруга царя Алексея
Михайловича Романова
Государю первый советник был ближний боярин – и Матвеев подсказал «учинить комедию». Так с рождением у Натальи Кирилловны первенца (будущего Петра I) на Руси рождался ее первенец – театр, что означало не просто устройство еще одной новой потехи, а являлось шагом в другую эпоху. Все хлопоты о «комедии» легли прежде всего на самого Артамона Сергеевича: он заведовал Посольским приказом, а в такой совершенно небывалой для Московии затее обойтись без помощи иноземцев было трудно. «Лета 7180 (1672) майя в 15 день по государеву указу полковнику Миколаю фон Стадену ехати в Великий Новгород и во Псков, и х Курляндскому Якубусу князю и приговаривать великого государя в службу рудознатных всяких самых добрых мастеров, которые б руды всякие подлинно знали и плавить их умели, да двух человек трубачей, самых добрых и ученых, да двух человек, которые б умели всякие комедии строить. А буде он, Миколай, таких людей в Курляндии не добудет, и ему ехати для того во владение королевства Свейского (шведского) и в Прусскую землю, и, там будучи, по тому ж сыскивать таких людей, великого государя в службу приговаривать и вывести их с собою к Москве».
А пока фон Стаден вел переговоры при разных европейских дворах и «приговаривал» в русскую службу музыкантов и актеров (соглашались из них не многие и с трудом: боялись, что потом не отпустят домой), государь тем временем «указал иноземцу магистру Ягану Грегори учинить комедию, а на комедии действовать из Библии книгу Эсфирь и для того действа устроить хоромину вновь». Воздвигли эту хоромину в селе Преображенском. Так появился на Руси первый театр.
Подобно редкому заморскому цветку, театр, казалось, был пересажен в собственно московскую почву с земли иноземной – из Немецкой слободы, основанной еще при Иване Грозном, в середине XVI века, когда в столице поселились немцы, поляки, шведы, голландцы и другие иностранцы. За целое столетие слобода эта подверглась значительным разрушениям. В середине же XVII века в Московию стало вновь прибывать много иноземных купцов и служилых людей, и тогда в 1652 году был издан указ, повелевавший «селиться им за Покровкой, на Яузе-реке, за земляным городом». Так возникла Новонемецкая слобода, «или Кокуй, отстоящая от последнего городского рва лишь на расстоянии небольшого поля, с постройками, возведенными по правилам и образцам немецким».
Это была своего рода «заграница» для Московии. Иностранцы принесли с собой свои обычаи, свой быт, свою веру: «Здесь они живут отдельно от русских и содержат три лютеранские церкви, две кальвинистских, одну голландскую, одну англиканскую, кои не имеют, однако, колоколов» (то есть, по тогдашнему пониманию, права публичного голоса). Иноземцы обитали в Москве, а время для них бежало «по-своему» – для Руси шел тогда 7180 год, а для них 1672-й. И развлекались они на «свой манер» – с музыкой и танцами; и одежду носили свою, которая «не у всех одинакова, однако у всех сходна тем, что она немецкая и больше всего на образец немецких дворян, особенно у женщин и девиц». В слободе завели свои школы.
Далее ► Устройство первого театра на Руси
Главная ► Мода и история театра